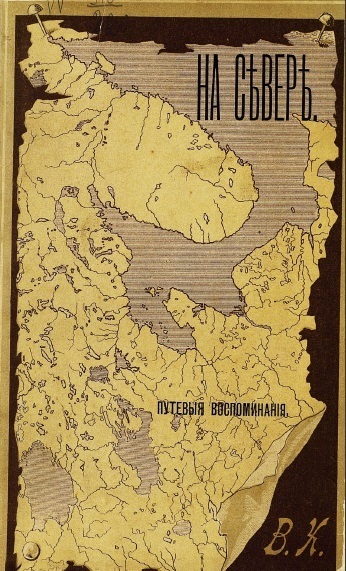

Глава III.
Водлозеро.
“Водлозеро — загнано место”, говорили нам еще в Пудоже. “Дома плохенькие, живут бедно — да что и говорить”.
И нам пришлось убедиться в справедливости этих слов. Деревня Большой Кул-Наволок на Водлозере, куда лежал наш путь, оказалась по истине “загнанным местом”. Брошенная на самый конец узкого и длинного, с версту, наволока или мыса, со своими бедными одноэтажными, покосившимися избами, она казалась какой-то бесприютной, печальной и дикой. Рыболовные снасти, лодки, весла, шесты для просушки сетей наполняли собой весь берег. И общим суровым фоном этой печальной картины служило хмурое, седое озеро.
Неприютное, холодное широко разлилось Водлозеро21 в низменных берегах, густо поросших[76] лесом. Страшна его необозримая гладь в тихую погоду; еще страшнее, когда грозный северик поднимает на нем высокие, бурные волны. Крепки Водлозерские лодки, но и им страшно пускаться в холодные воды озера при таком волнении. И холодно и неприютно живется Водлозерам. Это огромное озеро точно тяготеет над ними. Подует северный ветер — и скудное дневное пропитание, заключающееся преимущественно в улове рыбы, почти совсем отнято у Водлозера. Разве только где-нибудь в небольшой лахте или заливе можно половить рыбу. Кроме того то же озеро не позволяет ему часто сообщаться со своими соседями. Между деревнями, разбросанными по берегам и на островах его, часто на целые месяцы прекращается сообщение. По месяцам им не удается иногда съездить в погост или волостное правление. Вот чем объясняется, что Водлозеры так редко обращаются за решением споров к волостному суду, что они реже, чем в какой-нибудь другой местности уезда, зовут к себе фельдшера, что часто по два, по три месяца новорожденный ребенок остается у них без крещения.
Да, тяжела жизнь Водлозеров. Ранней весной идут они массами в южную часть губернии на водные системы или на север для рубки и гонки леса. И тут и там ужасные условия жизни: часто непосильная работа, сырость, холод, плохое питание развивают заразные болезни — и гибнут Водлозеры вдали от родных деревень. Понятно, цена за их работу весьма малая; да и то получают[77] они ее не из прямых рук, а от своего же брата богатея крестьянина, который наряжает их еще осенью. У богача-крестьянина бедняк зачастую бывает в долгах - вот почему при расчете он получает весьма малую сумму за целое Лето усиленной работы.
В деревне Большой Кул-Наволок всего один большой двухэтажный дом. Он принадлежит местному богачу крестьянину Кузнецову. Кузнецов держит при своем доме лавку — сильное орудие, чтобы захватить в свои руки бедных крестьян. Жалуются на него односельчане и не любят его — а все же приходится ходить к нему то за тем, то за другим. Кузнецов берет страшные цены — так напр. за фунт соли —3 копейки, за крендель (баранки) — 1 копейку, за 1 фунт кофе — 80 копеек и т. д.
В деревнях, оставляемых весной Водлозерами, остаются бабы с кучею ребятишек. На ответственности баб лежит прокормление семьи, обработка поля. Не покладая рук работает Водлезерка: она и на пашню поспеет и рыбу выйдет ловить с неводом. Вечером на большой дороге22, ведущей в деревню, постоянно видишь группы баб и детей, возвращающихся с одного из заливов озера с огромными корзинами из сосновых дранок за плечами; это они несут дневной улов.[78]
Смела Водлозерская женщина: в гребле она не уступит мужчине. Впрочем, бабе ставится даже в укор сидеть за рулем, когда мужик сидит в веслах; она непременно должна перемениться с ним местом. Неудивительно, что при такой суровой жизни Водлозерка пьет водку в очень большом количестве, тогда как на озере Купецком, например, бабы позволяют себе угощаться только наливками, по большей части, купленными в городе. Так живут Водлозеры дико и неприветливо, смотрят на первый взгляд как-то сурово и невесело — разве потом при беседе прояснятся их хмурые лица. Занимаются они преимущественно рыболовством, особенно после того, как стали преследовать подсечное хозяйство; но есть у них и пашни — и по целым дням их не видать дома. Даже и в воскресенье уходят на работу; да и чем отличается у них воскресенье от прочих дней?..
По истине, загнано место это Водлозеро...
* * *
Много было работы у наших Водлозерских хозяев.
“И рады бы были посидеть с вами”, часто извинялись они, “да работушки больно много”.
Семья была многочисленная и состояла больше из малолетних. Да и старшие казались какими-то Богом обиженными людьми. Большак, Михаил Федотович, очень добрый, но глуповатый мужик; его брат — заика; большуха, Акулина Са[79]вельевна, добродушная, преданная мужу и детям, но сильно дурковатая, как-то пассивно относящаяся ко всему. От снохи, почти занятой исключительно своими детьми, нечего было ждать большой помощи; да она сама, выданная за заику, угнетенная заботами о больных детях, сделалась злой и сварливой и срывала свою злобу на Акулине Савельевне. А старший сын Михаила Федотовича, Яков, парень здоровый и сильный, казалось, больше думал о песнях, играх, бесёдах — да о своей собственной красоте, чем о работе, и всеми силами отлынивал от нее.
Вот какова была семья наших Водлозерских хозяев. В небольшой, всегда почти наполненной дымом, “фатере”, редко можно было встретить взрослых; за то целый день там толкалась куча детей. Тут были и свои и соседские: кроткий с конфузливой улыбкой на губах, 10-летний Алеша; Иля 6-летний мальчик, всегда молчаливый, всегда задумчивый, до страсти любящий цветы, с замечательно ясным и чистым взглядом голубовато- серых глаз, и безответная, робкая Хоня, которая вечно таскала с собой полугодовую сестренку, с трудом, вся перегнувшись назад, удерживая ее на слабых худеньких ручонках; и косматый, рыжий Пронька с недобрым блеском в темно-карих глазах. У этого Проньки была злая мачеха — вот почему может быть этот 10-летний мальчик казался таким озлобленным. Двухгодовой братишка, которого ему поручено было пестовать, то и дело лез к нему, а он его[80] грубо отталкивал и с резким и злым смехом рвал на нем и без того худую рубашку.
“Пусть себе ходит так”, торжествующим тоном говорил он на укоризненные замечания доброй Акулнны Савельевны.
Но из всех детей выдавались 11-летняя дочь большака Марьюшка и ее однолетка подруга Дарко. В Пудожском уезде нам приходилось часто видеть замечательных по красоте детей. И куда деваются потом эти тонкие, правильные черты лица, чудные глаза, цвет волос? По крайней мере, у взрослых нам редко случалось видеть красивое лицо. Марьюшка и Дарко были не только красивы, но замечательно изящны и грациозны. Обе были черноволосые, черноглазые; только Марьюшка была живее и веселее, а у Дарки в прекрасных, опущенных длинными ресницами, глазах сквозило больше мечтательности и томности. У Марьюшки движения были ловкие и смелые, и когда она делала что-нибудь, всегда казалось, что сама она любуется ими. Дарко же, казалось, всегда ластилась к чему-то. Обе знали о своей красоте; может быть им наговорили о ней проезжие чиновники, останавливающееся у Михаила Федотовича, потому что вряд ли этого рода красота была по вкусу деревенским. Сама Акулина Савельевна сказала раз про обеих девочек: “Их все господа любят и балуют”. Как бы то ни было, они обе сознавали свою красоту и любили щеголять ею. Брат захотел снять с них фотографию. Марьюшка отказалась: “Теперь не хочу; в воскресенье вот — наряжусь тогда”. У Дар[81]ки не было во что нарядиться: она всегда и по будням, и по праздникам, ходила в одном и том же полинялом заплатанном сарафане. “Меня сейчас, только вон здесь”, быстро проговорила она почти умоляющим голосом. “Здесь можно?” Она не захотела стать около стены, где снимались другие, но побежала к выдвинутой на берег лодке, вскочила в нее и встала в позу, опершись рукой на высокий нос лодки.
И во всем что бы они ни делали, и Марьюшка и Дарко старались выказать как можно больше ловкости и грации. Бывало, видишь, Дарко возвращается со своими семейными с рыбной ловли. Большая, наполненная рыбами корзина у нее за плечами; утомленная непосильной работой сгибается она под тяжелой ношей — и все таки как легка и миловидна вся ее тоненькая стройная фигура. Марьюшка не отступает от подруги. Всегда веселая, всегда одинаково грациозная, убирает ли она, тихо напевая песню, домашнюю посуду, причесывает ли младших сестер, защищает ли их от нападения старшего братана Феди.
Это был по истине ужасный мальчуган, которого никто не мог засадить за какую-нибудь работу, который смеялся над приказаниями старших, жил как ему хотелось, бил и дразнил окружавших его девочек. Всегда оборванный и грязный, со спутанными волосами, из-под которых выглядывали дерзко и нахально серые глаза, с всегда приподнятой вверх головой, с отчаянным видом, он, казалось, только и искал случая и возможности сделать какую-нибудь ша[82]лость. Не смотря, однако, на все его проделки, девочки любили бесшабашного, ленивого, неуслужливого Федю, от которого им порой даже сильно доставалось.
Раз вечером вхожу в “фатеру.” Собралась масса детей. В середине, на лавке, сидит Федя, болтая ногами и безумно хохочет; смеется и вся компания; только двухлетняя Олена, не обращая ни на кого внимания, высунув язык, бегает вдоль скамьи, придерживаясь за нее руками.
“Посмотри, тетенька, какой дурак”, указала мне на Федю Дарко. “Смеется, сам не знает чему”, — и Дарка тотчас же сама рассмеялась.
“Бессовестный, ему говорят: кто будет зыбку, качать? А он и не думает”, произнесла Марьюшка, метнув грозный взгляд по направленно Феди, и все-таки улыбнулась. “Ну, уж погоди: придет ужо дяинька...”
“А что?” проговорил Федя и тотчас же не преминул толкнуть ногой пробегавшую мимо Олену.
“Вот ты какой, вот ты какой”, накинулась на него Марьюшка и побежала успокаивать раскричавшуюся девочку.
“Ну, не дурак ли ты?” презрительно пожала плечами Дарко, обращаясь к Феде. “Мы, тетенька, говорим ему: ходит он учиться, два года уж ходит, а все равно ничего не знает”.
“А ты-то умеешь?” внезапно обернулся к ней Федя. [83]
“Да я и не учусь. Меня бы учили — не так бы я умела”, и Дарко вздохнула и скромно опустила глаза.
“А ну-ка прочти — вот книга — покажи тетеньке, как ты читаешь”, начала она тотчас поддразнивать мальчика.
Но Федя, наверно, сознавая свое бессилие, упорно отказался читать. Девочки торжествовали и начали осыпать его насмешками.
Разговор между тем перешел на другую тему.
“Скучно у нас теперь, тетенька”, проговорила Дарко. Бесёды нет. Нам и некуда ходить”.
“Прежде”, пояснила Марьюшка “девушек у нас было много. Соберут бесёду — и мы идем. А теперь как-то все за одно замуж пошли — не для кого и бесёду делать; одна девушка всего и осталась в деревне”.
“Она нас учит как играть. Мы ведь играть умеем: и кандрель и ланциет”, с гордостью заявила Дарко. Тут вот к мостику, что на дороге, пойдем с нею, она и учит нас”.
Только после долгих упрашиваний девочки согласились спеть. Дарко затянула унылый мотив; подхватила его и Марьюшка. У Дарки голос был сильный и глубокий; у Марьюшки тоненький и звонкий. Марьюшка пела рассеянно, поминутно поправляя то складку сарафана, то ленту на голове. По увлажненным глазам Дарки, блестевшим из полуопущенных ресниц, видно было, что она предавалась вся грустному настроению, навиваемому на нее унылым мотивом.[84]
* * *
Уже несколько дней Водлозеро преграждало нам дальнейшей путь. Северик с самого приезда нашего в Большой Кул-Наволок никак не хотел успокоиться, и Водлозеро волновалось и сердилось так, что никто не решался свезти нас на противоположный берег его в деревню Конза-Наволок, где находилось волостное правление.
“Вставайте скорее” — разбудили нас внезапно одним пасмурным, холодным утром — можно доехать, если поспешить”.
“Северик стих?” был наш первый вопрос.
“На подсиверный запад свернул. Доехать можно, хоть и против ветру будет”.
Большая крепкая лодка ожидала нас у берега. На дне ее заботливо была наложена груда соломы для нас. У руля поместился староста какой-то дальней деревни, которому было по дороге ехать с нами; в веслах сели: наш хозяин, Михаил Федотыч, сын его Яков и солдатка Матрена, женщина лет 36, известная своей ловкостью и силою в гребле.
“Не потрепало бы вас на озере”, озабоченно качая головой, произнесла нам на прощание Акулина Савельевна.
Лодка быстро ныряла по свинцовым волнам; они не были особенно велики, пока мы ехали заливом. Но вот остался в стороне берег — все дальше и дальше отступал он — и грознее стали увенчанный белой пеной волны. Крепко налегали на весла гребцы. Разговору было мало: все их[85] внимание было обращено на весла. Только от времени до времени слышалось предупреждение рулевого: “Волна!” Нам было видно ее: высокая, грозная — она стеной поднималась над лодкой. Гребцы делали особенное усилие — нос лодки высоко взлетал, и мигом затем опускались мы опять в серую бездну, чтобы сейчас же опять взлетать наверх.
“Ни разу еще не залило”, с гордостью говорил иногда Михаил Федотыч.
Водлозеро испещрено островами. По словам местных жителей их здесь столько, сколько дней в году. Тут и большие и маленькие — но все они поросли зеленью или лесом, все окружены, будто твердыней, серыми валунами, о которые белыми брызгами и пеной разбиваются волны. Мы лавируем между островами: староста, хорошо знакомый с озером, ищет, как он выражается, — “тишинки” — т.е. места защищенные от ветра самим расположением островов. В “тишинке” отдыхают гребцы — нет лишней траты сил на борьбу с волнами; тут совсем тихо не слышишь грозного бушевания ветра. Иногда в этих тихих плесах встречаешь двух или трех лебедей. Гордо изогнув свои прекрасные белые шеи, они медленно и величаво плавают вдоль островов. Они не боятся приближающихся людей: ни один олончанин никогда не стрелял в лебедя, потому что трогать его считается грехом, который непременно будет наказан или смертью или семейным несчастьем стрелявшего.[86]
Но вот кончается “тишинка”. Снова выезжаешь в бушующее озеро; снова раздается монотонное: “Волна!” Умолкают, разговорившиеся было гребцы.
Яков начинает уже утомляться; вяло зацепляет его весло за воду и сбивает с такту сидящую рядом с ним Матрену.
Сердито взглядывает на него Матрена и тотчас отвертывается опять к своему веслу. Хмуро глядит она на озеро; внимательно следит за волнами.
Тяжелая жизнь на берегу этого озера, вечная зависимость от него и борьба с суровой природой наложили свой отпечаток на нее. Окрепли ее мускулистые руки от постоянной усиленной гребли; окреп весь ее организм, противостоящий с легкостью переменам погоды. Окрепли также ее внутренние силы. Бодро переносит она трудную жизнь солдатки, не имеющей работника в семье, долженствующей кормить себя и несколько человек детей. И теперь в ее взгляде, полном тупого безысходного горя и тоски, который придает только бедность и нужда, нет ни малейшего страха. Не впервые ей бороться с расходившимися волнами. Но нет и самохвальства — она сознает опасность, сознает всю силу бушующей стихии, но соразмеряет с ней и собственные силы. И твердо лежат ее руки на рукоятке весла, и сильным взмахом ровно взлетает оно из воды и снова опускается в нее.
Мы проезжаем мимо заселенных островов. Несколько изб ютятся на этих небольших[87] клочках земли среди редко спокойного озера. Нам показывают другие острова, на которых расположены пашни этих деревень; еще другие, где находятся их пастбища. На все лето отвозят сюда скот, и каждый день приезжают в лодках бабы доить своих коров.
Мало-помалу разговорились. Староста с любопытством спросил, куда мы поедем из Пудожа.
“В Соловки” — отвечали мы.
“Будто плохо”, одобрительно проговорил староста.
“Хорошее это дело, к святым угодникам съездить. Вот и от нас сколько народу ездит. Всякий хоть раз побывал”.
“Ездим вот как, начал рассказывать староста; соберется народ, сложится - карбас (лодку) значит, заведем себе, а то иной побогаче и так даром карбас даст. Припасов себе возьмем тоже. А потом и едем; гребем по очереди, а как волок — тащим карбас на себе. Так по рекам да озерам до Онеги доедем. А там монашки до угодников довезут. А придем оттуда — наш карбас опять ждет нас, тем путем и обратно доедем”.
Увлекшийся разговором староста перестал обращать внимание на руль.
“Староста, на луду23 правишь”, бесстрастно заметил ему Михаил Федоты.
Луда действительно виднелась вблизи; волны сильно разбивались о песчаную мель бурлили бел[88]лой пеной вокруг незаметных под водой камней.
“Ладно, ладно”, успокаивал староста и внезапно, неожиданно для себя, ощупал рулем камень.
“Сохрани Господи”, воскликнул он испуганно.
“А и впрямь на луду правлю, да и не заприметил”, продолжал он, уже улыбаясь, когда два-три сильных взмаха весел отнесли нас далеко от опасного места. “Вот оно и кормщик какой я”.
Нанесенная на луду лодка может сразу разбиться. Бывали случаи, когда люди, выкинутые на луду, долго боролись с волнами, но их или разбивало постоянно набегавшими волнами или уносило далеко в открытую воду.
Гребцы причаливают к одному маленькому безлюдному островку. До Конза-Наволока остается 5 верст по совершенно почти гладкому месту. Надо дать отдохнуть рукам. Мы выходим все на островок. Буря гудит кругом, наклоняя ветви елки, одиноко растущей на нем. Вокруг теснятся, спешат куда-то, седые, бурные волны. Минуть через 10 гребцы с новой силой опять берутся за весла.
На пути мы встречаем рыболовов; одни только что выезжают на промысел, другие осматривают уже брошенные невода. Как-то отрадно встретить на этом просторе других людей и страшно в одно и тоже время смотреть на их то высоко взлетающие, то исчезающие в седой бездне лодки.
Налево в стороне остается длинный, узкий Кинг-остров. На нем, говорит предание, была[89] битва с чудью, и тут легла она вся. Лес на этом острове издавна почитается волдозерами священным, хотя на нем и нет никакой часовни; но рубить его считается грехом, запрещенным Богом.
“Знаешь Кузнецова у нас в Куль-Наволоке — дом у него большой такой”, произносит своим медленным и нерешительным голосом Михаил Федотыч “так то отец его, Василий Кузнецов, рубить захотел. Долго ни за какие деньги не мог подрядить, кто бы ему срубил. А потом рука у него и отсохни”.
В лодке наступило молчание. Ревет ветер, низко наклоняя деревья на молчаливом, таинственном Кинг-острове. Лодка быстро проносится мимо.
Не только на Кинг-острове лес считается священным и не с ним одним связано предание. Близ деревни Большой Кул-Наволок лежит так называемый Петуний остров; мелкий кустарник на нем также запрещено рубить. Другой Воскресенский остров, почитается священным за то, что на нем находится древняя часовня и около нее могила, приписываемая какому-то пустыннику. Здесь служат молебен в Фомино воскресенье, и многие приезжают сюда. Предание говорит, что на этом острове спасались два пустынника, из которых один, впрочем, ушел от своего товарища. Имен их не знает никто; но народ убежден, что они святые. Много преданий вообще сохранилось на Водлозере относительно раз[90]ных островов и урочищ, и крепко держится их народ.
Небо мало-помалу начинает проясняться. Ветер с силою гонит тучи; вот заблестело солнце. Одна половина озера еще отражает серое, покрытое тучами небо; другая блестит яркой синевой. На возвышенном берегу, облитые лучами солнца, теснятся вокруг деревянной часовни избы Конза-Наволока.
...Возвратный путь мы совершили под парусом. Ветер еще не стихал, но небо было совершенно ясно. Синие волны озера подкатывались под борт нашей лодки, приподнимали ее на свой высокий гребень и снова сдавали ее катящейся рядом волне. Кружилась приятно голова от этого постоянного колыхания, от блеска и движения ярко-синих волн.
Гребцы отдыхали: Матрена, сложив на груди руки, глядела куда-то вдаль. Яков улегся на лавке. Только Михаил Федотыч, крепко замотав брас вокруг ноги, управлял им парусом. Молчали все; тихо посвистывал Михаил Федотыч, призывая свистом ветер24.
“Эх, мало подсобляют”, проговорил, наконец, Яков.
Он приподнялся с лавки, снял шапку и поклонился:
“Сивушки бурушки
Вещие вороняюшки,
Пособите дружки, помогите.
Как моего дедушку слухали,[91]
Как моего батюшку слухали,
Послужите и мне
Верой правдою
Силою крепкой”,
быстро проговорил он и снова лег на лавку.
“Ишь, услыхал; вот так славно; ну, еще, еще — вот так!” с удовольствием возглашал Яков. Действительно ветер, точно послушавшись заклинания, начал крепчать.
Яков затянул песню.
Какое-то особенное впечатление оставляло это пение среди всеобщей тишины, прерываемой только резкими порывами ветра, да журчанием воды, прорезываемой лодкой.
Голос у Якова был сильный, мягкий и гибкий. Его с удовольствием можно было слушать.
“Спой еще песню, Яков”, попросили мы.
Яков посвистел немного, чтобы еще вызвать ветер и начал снова. На этот раз он хотел удивить нас своим знанием городских песен.
Вот что он пел:
Скрылось солнце за морями
Водворилась тишина,
И с Петровской долины
Волны плещут берега (sic)
Бедный рыцарь там стремился
К Марфе молодой.
Там Марфею снаряжали
Жить победную к венцу.
Марфея бедна плачет,
И несчастна слезы льет:
“Уж вы, девушки, скажите,
Как забыть бы рыцаря”[92]
Бедный рыцарь наезжает;
Рыцарь саблю облагал.
Сабля вострая свилася
И покатилась голова.
Померла наша Марфея,
Руки к сердцу приложила,
Богу душу отдала.
Гробны доски сколотили
И в Божью церковь понесли,
Все там певчие пропели,
Потряслася мать земля,
И вся вселенная сказала,
Что есть погибшая душа.
Тело в гробе говорило:
“Подойди, милой, сюда.”
Священники сказали:
“Воротить души нельзя”.
С трудом узнали мы в этих словах известную балладу “Мальвину”. Несколько раз приходилось нам слышать в средних губерниях переделку этой баллады, но никогда в таком исковерканном виде. Не менее удивил нас Яков, когда после этой песни, он с гордостью затянул “Коз-Булат удалой” и наконец “По синим волнам океана”.
Жадная до новых песен деревенская молодежь с увлечением учит все песни, приносимые Петрозаводскими мастеровыми и отслужившими солдатами, и наконец, переводит на песенный склад выучиваемые в школе стихотворения.
Ветер все еще недостаточно подсоблял, по понятно Якова. Он опять начал свистеть.
“Довольно, Яша”, заметил Михаил Федотыч.[93]
“Не видишь, что ли, как везет? Мало тебе?” сердито обернулась в его сторону Матрена.
Но Яков не унимался.
“Эй, вы, живей”, кричал он. “Ну, тройкой подсобите!” Налетевший порыв ветра заставил карбас сильно накрениться. Огромная синяя волна заглянула к нам в лодку. Яков мигом вскочил.
“Довольно, довольно!” закричал он и показал кулак волнам.
“Ну вас! Ишь расходились!”
“Говорили тебе”, произнес Михаил Федотыч.
Яков опять лег и в полголоса затянул песню.
Вдали показался Кул-Наволок.
“Ну, громче теперь — пусть все слышат, что мы едем. Подтягивай Матрена!” воскликнул Яков.
Матрена улыбнулась и присоединила свой голос то был голос резкий, немного надтреснутый. Испортился ли он под влиянием тяжелой жизни, неблагоприятных климатических условий?
Громко на весь залив звучала песня. Под ее звуки лодка быстро пробежала лахту и мягко врезалась носом в песчаный берег.
* * *
На этот раз озеро совершенно тихо. Может быть и обещают дождь густые белые облачка, поднимающиеся на горизонте; но все небо безоблачно и солнце обдает нас сверху целым потоком горячих лучей. Точно по голубому зер[94]калу скользит лодка. Наш путь лежит в оба Водлозерских погосты: Пречистенский и Ильинский.
Опять острова перерезывают нам прямой путь. Снова мы огибаем их скалистые берега — то въезжаем в тень, бросаемую на воду деревьями, растущими на них, то выезжаем снова на освещенную солнцем ярко-голубую поверхность озера. Но вот лодка въезжает в узкий пролив между двумя островами — так называемые “Железные ворота” — и заблестела перед нами, ослепляя глаза, непрерываемая островами, далекая и широкая гладь озера. Вдали на высокой горе виднелся Пречистенский погост.
Михаил Федотыч, и на этот раз, сопровождающий нас в качестве рулевого, быстро поднимается с места, снимает шапку и кланяется.
“Что ты кланяешься”? спросили мы.
Михаил Федотыч, успевший уже сесть снова за руль, сконфузился и промолчал.
“Так уж ведется у нас”, проговорил он, наконец.
Только после долгих расспросов нам удалось узнать настоящую причину его поведения.
Дело в том, что на Водлозере, где, как уже было сказано, остался особенно в силе культ водяного царя и подвластных ему духов — водяных озер, рек и ручьев — ходит предание, что в “Железных воротах” обитает водяной. В существовании водяных население нисколько не сомневается; живо хранит оно это верование, подкрепляемое рассказами очевидцев, или слышанными от очевидцев о том, как видели во[95]дяного старика, который иной раз является снабженным гусиными лапами, в другой — похожим во всем на обыкновенных людей. Еще недавно один мужик из Кул-Наволока видел его в самых Железных воротах: он вылез на остров и сидя на камне, начал было гребнем расчесывать свои волосы, но при виде человека, стремглав бросился в воду. Неудивительно поэтому, что проезжая этот пролив — жилище водяного, Водлозеры кланяются ему и часто, про ехав мимо благополучно, крестятся. Впрочем не одни Железные ворота страшны для Водлозера. Есть еще другой пролив, близ Ильинского погоста, где живет другой водяной, так называемый Ильинский, в отличие от Пречистенского - обитателя Железных ворот. Интересно, что Водлозеро по представлению народа находится в ведении двух водяных; еще интереснее, что место их жительства определяют именно близ двух Водлозерских погостов, как бы указывая на то, что там, где теперь стоят христианские церкви, прежде были священные языческие места. Вот какое предание ходит в народе относительно родства этих двух владык огромного озера. Ильинский водяной пожелал выдать свою дочь за сватавшегося за нее пречистенского водяного. Но у дочери водяного был и другой жених: водяной с Кенозера, которое прежде было соединено с Водлозером. Узнав о предпочтении, выказанном пречистенскому водяному, кенозерский водяной навсегда рассорился с ильинским, ушел к себе и дорогу к Водлозеру забросал[96] камнями. Вот почему Кенозеро теперь не соединяется с Водлозером. А пречистенский водяной справил свою свадьбу и в приданое за молодой женой, между прочим, получил целый остров, который, везомый петухом, приехал с реки Илексы к деревне Большому Кул-Наволоку, т.е. в часть озера, принадлежащую пречистенскому водяному. И до сих пор стоит этот остров и носит название Петуний, потому что его привез чудесный петух. Как было сказано раньше, кустарник на этом острове считается священным.
Есть предание, что Пречистенский погост предполагалось построить на острове Шенгема лежащем очень близко к Железным воротам. Но лес, пригнанный сюда для постройки, сам собой отплыл к тому месту, где теперь стоит погост. Набожный народ счел это за нежелание Божьей Матери иметь церковь на острове Шенгема и построил в честь ее Рождества храм на выбранном Ею самой месте.
Теперь Пречистенский погост стоит на высокой горе, круто спускающейся к озеру. Выше елей, угрюмыми, мрачными стрелами поднимающимися к небу, высятся купола церкви. Между темно-зелеными ветвями едва сквозят белые стены ее.
Долго шли мы по чрезвычайно крутому подъему от озера до погоста, пока, наконец, приветливо не замелькали между деревьями постройки, относящиеся к домам причта. У загороди перед своим домом, с любопытством разглядывая нас, уже стояла матушка и настоятель погоста отец Ва[97]силий — человек еще не старый, высокий и худой, в потертом подряснике, круглой фетровой шляпе и с туго заплетенной косичкой.
Нас приняли чрезвычайно радушно, будто старых знакомых. По прошествии первых минут разговор уже шел быстро и оживленно. Обреченные на скучную жизнь вдали от прихожан, наши хозяева, очевидно, были рады встрече с новыми людьми.
Особенно говорливой и любопытной оказалась матушка. Отец Василий был более молчалив; он давал больше высказываться собеседнику, иногда покашливал вместо ответа и пытливо посматривал на говорившего своими серыми, часто мигающими глазами.
Он оказался, впрочем, большим хлебосолом. Матушка, поспевавшая и с разговором и с хлопотами по хозяйству, скоро появилась с кофеем, разлитым в чашках. За кофеем последовал чай; между чаем и кофеем обносили лепешками, пирожками с вареньем и другим печеньем. А скоро засадили и за обед с ухою, студнем, рыбником двух сортов, вареной рыбой и только после такого “постного обеда” (время было Петровки, и матушка извинялась, что не могла угостить лучше) отец Василий согласился исполнить нашу просьбу и показать нам церкви.
В Пречистенском погосте две церкви: старая и новая. Последняя выстроена недавно, окрашена в белую краску, так что издали походит на каменную; она представляет из себя высокий кубический сруб, увенчанный пятью куполами.[98] Составляя гордость Водлозеров, пожертвовавших много на ее построение, она, тем не менее, ничем не интересна. Старая церковь, судя по церковным записям, построена в 1752 г. Это типичная северная церковь, архитектура которой имеет свой особенный характер: продолговатый, четырехугольный сруб с высокопоставленными окнами, с чешуйчатыми куполами и барабанами, выходящими прямо из крыши, с красивыми сенцами и шатровидной, покоющейся на столбах колокольней. Внутри она разделена на две части. В первой хранятся старые церковные вещи; во второй, хотя изредка, происходить служба. Сначала церковь была шатровая; но она относительно недавно была поправлена, шатер уничтожен и иконы подновлены на средства Водлозеров. Сохранилась хорошо только одна старинная икона: это изображение Страшного Суда, пожертвованное как гласит надпись на нем, в 1786 году водлозерам Петром Афонасьевичем Лебедевым. Этот образ, по предположению отца Василия, был, вероятно, написан кем-либо из живописцев при Даниловском скиту. Живописцы из Даниловцев были прежде в большой славе на Севере. Яркими, сохранившими еще свежесть красками, разрисованы тут ангелы, черти, змий, в огненную пасть которого Архангел Михаил вталкивает грешников, мучения и казни за разные грехи, праведники, смерть-скелет, несущий разные инструменты в берестяных “крошнях” за плечами, и под надписью: “вода отдает мертвыя своя”, едущий на[99] рыбе водяной, держащий в руке лодку, полную мертвецов.
Прекрасный вид на Водлозеро открывается с колокольни погоста. Все озеро лежит где-то далеко внизу. Взор свободно минует строения погоста, минует массу островов, тонущих среди светло-голубых вод, видит массу деревень, рассыпанных по берегам и на островах, пашни, золотисто-зелеными пятнами выступающие среди темной зелени лесов, и останавливается там, где светлая полоса неба граничит со светлой полосой воды, закрытой пологом сероватого тумана.
Много рассказывала нам матушка о своем житие-бытие, жаловалась на безлюдье, на бедность своих прихожан, от которых зависит и их собственное благосостояние. Удерживаемые частыми бурями, прихожане редко являются к обедне; церковь зачастую бывает пуста. Только в Петров день — праздник в погосте — стекаются сюда. Водлозеры в огромном количестве, не смотря ни на какую погоду. Тогда погост оживляется. Пестрая толпа после обедни рассыпается по всей горе; располагаются на траве с припасами, привезенными из дому; другие, неся с собою свои кушанья, между прочим, морошку, идут плакать на могилы родных.
Петров день — великий праздник для Водлозеров. Сюда, на Пречистенский погост, говорит предание, ежегодно в этот день к самой обедне прибегал лось; его закалывали и ели все, пришедшие на праздник. Лось давно перестал при[100]бегать на жертвоприношение; его заменили быком, которого приводили прихожане — но и этот обычай уже вывелся и живет только в предании. Общественные пиршества, так называемые “жертвы” не вывелись совершенно в Пудожском уезде. В полной силе они существуют в немногих местностях. За то в многочисленных деревнях сохранилось предание всегда одно и тоже, что в тот то или в другой день прибегал к церкви или часовне олень или лось или прилетал лебедь25, что эти животные закалывались в качестве жертв. Но, прибавляет всегда предание однажды не дождались жертвенного животного и заменили его быком (в других местностях бараном). Явился таинственный зверь, увидал замену и исчез; с тех пор всегда и режут быков и баранов. Теперь жертвенное животное покупается на общий счет, как например в деревне Корбозере; или же приносят в жертву так называемых “завиченных” баранов, как например, в Авдеевской волости на озере Купецком. Здесь жертвоприношение происходить в праздник святого Макария Унженского, 26-го июля. Святой Макарий считается покровителем скота. Вот почему, чтобы охранить свой скот от падежа или от “витренного волка”- и “окаянного медведя” — часто же в благодарность за исцеление от какой-нибудь болезни, крестьяне “завичают” баранов святому Макарию. “Завиченный” баран отмечается в стаде; его откармливают[101] и в день памяти уважаемого святого, ведут к часовне его имени. Эта часовня стоит на берегу озера между деревнями Бураковым и Авдеевской. Сюда стекается народ со всей волости. Из Буракова приезжает священник и служит молебен. Затем он кропит жертвенное мясо святой водой. А потом начинается пиршество.
На Водлозере не сохранилось до сих пор жертвоприношения. Только старики помнят, как в Ильин день резали быка на Ильинском погосте, и как в Конз-Новолоке в тот же день приносили в жертву нетёлку. О жертвоприношении на Пречистенском погосте, как уже сказано, сохранились одни только рассказы.
Горячо обвиняла матушка Водлозеров: “и Петровщину”26 то они плохо сбывают, да и за требы дают мало и неохотно. Даже за детей, которым далеко ездить каждый день в школу, находящуюся близ погоста, и которым дается убежище в доме священника — даже за них редко дают какую-либо плату.
Только напоив нас во второй раз чаем, о. Василий согласился отпустить нас. Еще долго стояли на берегу, провожавшие нас наши гостеприимные хозяева. Отец Василий делал нам прощальные знаки своей выцветшей фетровой шля[102]пой; матушка махала платочком. “Кланяйтесь отцу Иоанну”, в последний раз донесся до нас по волнам ее голос.
Солнце уже садилось, когда мы подъезжали ко второму Водлозерскому погосту — Ильинскому. Огненным шаром погружалось оно в серые, успевшие потемнеть, волны. Жарко горел закат, бросая свой отблеск на озеро. На его ярко-красном, точно дышащем огнем фоне как-то особенно резко выделялся низменный остров и на нем пашни, изгороди, дома причта и окруженная несколькими елями деревянная церковь. С запада потянул ветерок; зарябились облитые пурпуром волны; тихо заколебались темные ветви елок на острове. Как бы внезапно оживилась вся картина, мирно дремавшая до сих пор.
Дорога к церкви идет между засеянных пашен причта. Рожь уже довольно высока и начинает колоситься. Бежит ветерок по этому морю зеленых колосьев. Между стеблями склоняющимися волнами, точно огненные нити, сквозят лучи заката. Мы подходим к деревянной ограде, обнесенной вокруг церкви и кладбища.
Мирно спит кладбище. Под тенью елей возвышаются зеленые бугры — тут покосившийся крест, там полуобваливвшаяся ветхая кивотка.
Церковь высокая с четырехугольной колокольней, недавно поновленная, недавно выкрашенная в темно-серую краску. Внутри сделан новый иконостас, но шатер оставлен.
Отец Иоанн, вызвавшийся быть нашим проводником, выносит из церковных складов убранные[103] по приказанию архиерея, северные двери с изображением святого Христофора. По церковному преданию этот святой, обладавший поразительной красотою, просил Бога обезобразить его. Ему дана была собачья голова. Святой Христофор в Водлозерском погосте изображен именно с такою головою. Преосвященный Ионафан, епископ Петрозаводский, объезжая свою епархию, заметил этот образ и велел его убрать27.
Отец Иоанн низенького роста человек, с добродушным круглым, совершенно русским, лицом, курносый, с реденькими русыми волосами, с живыми серыми глазами. Встретил он нас официально: “отец Иоанн, священник здешнего прихода”. Минут через пять он, однако вполне освоился с нами — стал болтать, шутить, подсмеивался над прихожанами и изъявил всякую готовность показать нам свой погост. Живет отец Иоанн уже давно в Водлозерском - Ильинском погосте. Он обладает гораздо большей энергией, чем отец Василий и гораздо деятельнее ведет свои дела. Он и не скучает, и не жалуется на свое положение, находит время и почитать: выписывает себе “Церковный Вестник” и “Ниву”. Отец Иоанн ведет летописи своего прихода — летописи дельные, толковые. Сочиняет он также проповеди. Он первый решился говорить в церкви не с печатанного, а своим простым Водлозерским языком. Водлозеры сначала удивились такому нововведению и даже осуждали своего священника;[104] но скоро привыкли слышать проповедь на понятном для них языке - и отец Иоанн чувствовал себя вполне награжденным за свои труды, слыша не раз, как в деревне спорили и обсуждали содержание его проповедей, между тем как читанные церковным языком наставления не производили желаемого впечатления.
...Каким образом тихо и незаметно подкралась ночь — белая, светлая. Был уже первый час, когда мы выехали с погоста. Узкой красной каймой гас закат на одном конце неба и тут же яркой полосой зажигалась новая заря. Небо белое; волны светло-серого цвета. Холодно. Мы завернулись в пледы и легли на дно лодки.
Ветер нам попутный. Гребцы убирают весла и наставляют парус. Тихо кругом. Словно какая-то волшебная незримая сила везет лодку. Слышно только, как вода журчит у носа, да сзади нас тихо посвистывает рулевой.
Все больше и больше разгорается восток. Вот уже гребни волн окрашиваются в розовый цвет. Словно широкая полоса переливчатого розовато-серого цвета легла поперек озера. Порыв ветра рябит ее, с легким шумом проносится он в деревьях островов.
Тихо, тихо все. Мелькают острова, волны несутся нам вдогон. Вот на носу, полулежа, уже дремлют гребцы. Лодка кажется одушевленной, знающей сама, куда ей везти нас — словно все это сон... тихо, незаметно засыпаешь.
Пробуждаемся мы на берегу около Кул-Наволока.[105]
* * *
13 лет тому назад было приступлено к постройке школы близ Водлозерского Ильинского погоста. Предполагали выстроить ее в деревне Конза-Наволок, самом многолюдном из окрестных селений. Но священник Водлозерского Ильинского погоста просил выстроить ее ближе к своему дому, чтобы ему было удобнее посещать ее. Вот почему здание школы одиноко высится теперь в пустынной местности между погостом и деревней Конза-Новолоком. Священника отделяет от школы только узкий пролив — деревенские же жалуются на то, что детям далеко ходить учиться
“Будь у нас училище в Конза-Наволоке, сколько теперь стало бы ходить туда. А теперь гляди и в погост-то иной раз не выдастся съездить из-за погодушки — куда же в училище ребяток гонять? А зимушкой-то — у кого и одеженки теплой нет”.
На отдаленность школы жаловались также и в Кул-Наволоке, откуда детей надо было посылать в училище при Пречистенском погосте и в Авдеевской на озере Купецком, где за недостатком теплой одежды боятся пускать детей зимой в Бураковскую школу через озеро.
Школа Водлозерская — здание высокое и большое. Тут помещается классная комната и квартира учителя; кроме того, некоторые дети из дальних деревень остаются ночевать в школе. В[106]настоящее время таких пансионеров только 5 (из 25-и учеников).
Во время нашего посещения занятий в школе не было. Шли летние каникулы, продолжающиеся с 27 мая до 15 сентября. Просторная классная комната была пуста. Черные парты стояли унылыми рядами; висела запыленная карта; валялись полуисписанные листы бумаги; чернильница с высохшими чернилами и сломанное перо были оставлены на учительском столе. В углу печально стоял шкаф с убогой школьной библиотекой.
Дети, по свидетельству учителя М. С. выказывают большую охоту к чтению и большую любознательность. Берут книги из школы и взрослые. К сожалению книг слишком мало — нечего почти и брать.
В неканикулярное время занятия идут в продолжение 5 часов. Преподается: Закон Божий, арифметика, русский язык и наконец “элементарные сведения об окружающем мире”.
Эти элементарные сведения — как много вносят они разлада в умственную жизнь деревни! Гордясь новоприобретенными сведениями, ребятишки с сознанием своего превосходства объясняют все, что они слышали в школе, своим родным. Тут-то потрясаются вековые верования: солнце не ходит, Илья Пророк не ездит по небу. Не верит этому старшее поколение, но замыкается в себе, побаиваясь насмешек молодежи. А новое начинает сомневаться в справедливости прежних суеверий, хотя и не совсем освобождается от них; за то иногда ветрено и легкомысленно[107] попирает завещанное веками. И жалуется на молодежь старшее поколение: “уже многие стали плохо хранить посты — разве только Великий пост соблюдают28; многие дотрагиваются до запрещенного стариной, кое-кто пробовал заячьего мяса, другой отведал петуха”29.
“Бают, того нельзя, другого не можно — а может быть и ничего”, говорит еще не совсем уверенная молодежь.
На том же острове, где стояла школа, жила хорошо известная Водлозерам ворожея. Ее звали Марья, а по фамилии мужа Мудрой — ей было дано прозвище Мудричиха.
К Мудричихе часто приходили Водлозеры за своими делами. Точно мудрая была старуха: знала она “слова” (заговоры) на всякие случаи, умела приворожить кого следует, умела тоску нагонять, лечила от разных болезней. Впрочем в лечении она прибегала и к хитрости, как мы узнали потом: часто Мудричиха являлась к фельдшеру, жалуясь на какой-нибудь недуг: полученное лекарство она сохраняла и потом давала его своим собственным пациентам, соединяя это лечение с нашептыванием.[108]
Учитель местной школы М. С. взялся познакомить нас с нею. Мудричиха была хорошо знакома ему, часто по долгим зимним вечерам приходила к нему беседовать и чувствовала вообще большую симпатию к молодому человеку, которого называла даже просто Максимушкой за то, что он всегда ласково обходился с ней.
Мудричиха оказалась женщиной лет 46, еще вполне бодрой и здоровой. Морщинистое лицо ее с небольшими темно-карими глазами, зорко выглядывающими из-под полуоткрытых век, носило отпечаток смышлености и хитрости, не смотря на то, что она старалась всеми силами придать ему выражение добродушия.
“Что ты, Бог с тобой, Максимушка”, проговорила она, отрицательно качая головой, когда М. С. объяснил ей мое желание услыхать от нее заговоры. “Сам знаешь — я никаких слов и не знаю”.
Но в М. С. она нашла плохого союзника: он продолжал настаивать на своей просьбе.
“Ведь отреклась я от этого давно, летушко мое красное — сказала, что больше никогда не буду никаких слов говорить”, отвечала Мудричиха, и на лице ее было написано глубокое сожаление, что она не может удовлетворить моему желанно.
Оказалось, что отец Иоанн Водлозерский пригрозил ворожее, что не допустит ее к причастию, если она не откажется от своего ремесла. Мудричиха, конечно, не отказалась от такого выгодного занятия, но удвоила осторожность. Мы дали ей обещание, что отец Иоанн ничего не узнает. Старуха поколебалась. Ее сомнения исчез[109]ли окончательно, когда ей поднесли водки. Тут мне действительно пришлось изумиться: Мудричиха залпом выпила полный стакан, но водка ничуть не подействовала на нее, разве только придала ей немного смелости.
“Ну, садись — все тебе расскажу. Какие же тебе “слова”? Постой, скажу тебе “сглядные слова”. Ты красная девушка, на бесёду ходишь — такие слова скажу, чтоб все “холостые” за тобой ходили. Садись же скорей: ну, пиши”.
И Мудричиха передала мне многие средства наводить красоту: шептаниям на мыло, на воду, умываниям с яйца, положенного в муравейник и т. п.
“Постой, вот какие слова тебе скажу” - Мудричиха снова подкрепилась стаканом водки. Она сделалась вдруг веселой; глаза на минуту разгорелись, деланное выражение доброты вдруг исчезло. “Ты ведь не скажешь отцу Иоанну? Крепко уж ругал меня батька. Ну, какие же слова? Вот “судебные”. Порато хорошие слова: судиться ли будешь, перед начальством ли отвечать, ведь мало ли какой случай выйдет — проговоришь их — все ладно будет”.
“Вот Максимушка-то все серчает на меня, бранит, будто детей учу недоброму. А как же? Я каждому из них слова эти самые “судебные” нашепчу. Только что он не знает. Жаль ребяток: иной урок не выучит; только и нашепчешь ему все пройдет. А и сам Максимушка — начальство-то к ним приезжало сюда. Отчего ты думаешь, сошло все хорошо: я ведь нашептала.[110]Только ты ему не сказывай”. И Мудричиха рассмеялась, радуясь удавшемуся обману.
Подошедший к нам М. С. заметил ворожее, чтобы она не останавливалась на обыкновенных заговорах, но сказала бы также, как нагонять тоску и разлучать двух людей.
“Это гораздо интереснее”, тихо сказал он мне.
Осторожность и опасливость мигом закралась в ее глаза. Мудричиха вся встревожилась.
“И не знаю я таких слов”, почти обиженно сказала она.
“Нехорошие эти слова. Не грех ли тебе, Максимушка, возводить на меня ...”
“Ты же сама мне говорила их ...”
“Греха такого на душу не возьму, энергично закачала головой Мудричиха. Сказала раз и больше не буду. Грех-то какой”. Мудричиха закрыла себе лицо руками.
“Поразмысли: ведь я тебе скажу — ты сделаешь что-нибудь. На моей душе грех будет, что научила тебя”, объясняла она свой отказ. В голосе звучало мучительное беспокойство.
Я побожилась, что никогда не буду употреблять этого заговора, что мне только интересно послушать его.
“Нет, нет, грех-то — Господи, помилуй меня грешную... Ты еще кого-нибудь научишь, все мой грех будет” — решившаяся было совсем Мудричиха вдруг снова испугалась.
“Никому не скажу и сама разлучать никого не буду, говорю перед Богом”, сказала я.
“Пиши!” с внезапным порывом энергично[111] произнесла Мудричиха. Боялась ли она, что мужество снова оставит ее? Она выпрямилась, крепко прижала к груди сложенные вместе руки и с выражением ужаса на лице, сдавленным голосом стала быстро говорить:
“Стану не благословясь, Господом не прощена, отцом, матерью не благословенна - (“Господи, страсть-то какая — прошептала она, Господи, помилуй нас”), выйду из избы не дверьми, из семей не воротьми30, выйду чертовыми следами и лесовичьими тропами, выйду в чистое поле, в широкое раздолье. В чистом поле, в синем море стоит габанище; в этой габанище стоит цельнище (лодка). В этой цельнище сидит черт с чертовкой. Сидят они, лицами порозно, ноги руце сцепаются и на встрету не встретаются; в одно место не дунут, в одно место и не плюнут; одной думы не думают, одного совета не творят и любови не ведут. Также бы раб Божий (имя рек) сидел бы с рабою Божию (имя рек) лицами порозно, в одно место не дунут, в одно место и не плюнут, дерутся и сцепаются и настрету не стретаются, одной думы не думают и совету не ведут и любови не творят”.
“Без аминя тут”, шепотом добавила Мудричиха.[112]
Она кончила, и — будто облегченная откинулась назад.
“Молодец старуха”, проговорил М. С., “выпей теперь”. Мудричиха не заставила себя просить.
Вино благодетельно подействовало на нее: усыпило в ней угрызения совести. Мудричиха стала снова весела, начала откровенно жаловаться на отца Иоанна, говорила про свою бедность, попросила у М. С. щепотку чаю, даже заплясала под конец...
Когда через час мы уезжали, Мудричиха вышла на берег провожать нас.
“Прощай, летушко мое красное”, говорила она, обнимаясь со мною. “Не забудь ты меня, старую”. — А в глазах таилось беспокойство. Не сожалела ли она, сказав так много незнакомому человеку, о своей неосторожности?[113]
21. Площадь озера занимает 411 квадратных верст. [76]
22. Проезжая дорога на Водлозеро проведена очень недавно; до этого времени Водлозеро принадлежало к таким глухим углам Пудожского уезда, куда можно было проникнуть только верхом или пешком. [78]
23. Луда – подводный камень. [88]
24. Поверье, распространенное по всему Северу. [91]
25. Поляков: Зап. И.Г. Общ. От. Эт. Т. VII [101]
26. Два раза в год установлен сбор в пользу духовных лиц: “Петровщина” заключающаяся в сборе молока и масла и “осеньщина”, состоящая в сборе рыбы. Собирают “Петровщину” и “Осеньщину” или сам священник с членами причта или жены их. Понятно, что на Водлозере сбор, по бедности жителей, не может быть велик. [102]
27. В настоящее время этот образ находится в Историческом музее в Москве. [104]
28. Особенно плохо соблюдается молодежью Петровский пост, к нему относятся даже с добродушной насмешкой. “Вишь пост то Петровский – бабий пост. Они его и выдумали – молоко про зятьев копить. Так его и не грех не соблюдать”. Действительно, пост Петровский очень на руку хозяйкам: для них он самое удобное время скопить на хозяйство как можно больше молочных продуктов (масло, сметана, сыров) часть которых идет, однако, на отбывание Петровщины. [108]
29. Зайцев и петухов не едят в Пудожском уезде. [108]
30. Обычная формула начала заговоров совершенно такая же, только без отрицательных частиц. Впоследствии удалось мне слышать от других ворожуний подобные заговоры. Все они отказывались сначала от знания их, потом после долгих просьб произносили их, но всегда с глубоким страхом. [112]
Полная версия книги на сайте
 Слабовидящим
Слабовидящим
